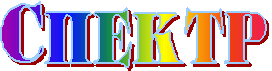
|
No. 2 (020) |
February 14, 2000 |
||
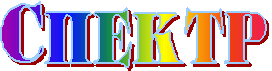 |
|
||||
«...Выпивать и закусывать...»
Нина Воронель — Игорю Губерману: Эти записки возникли из одного телефонного звонка. Обычного утреннего (или вечернего) перестука–перезвона «Старуха, что нового?» Помнится, я принялась уговаривать Игоря поехать на один из тех семинаров в кибуце, которые время от времени устраивает наш местный Союз писателей. Кормят от пуза, говорила я, выпивку возьмем, на травке посидим, на коровок поглядим… — Так это же счастье! — воскликнул он с воодушевлением (что, вообще–то, у него ничего еще не значит), — А жен с собой можно брать? Я бы Тату взял. Я как раз о ней воспоминания пишу, а когда объект под рукой, это гораздо удобнее. Я расхохоталась. Но спустя час или два после того мимолетного разговора вдруг подумала: черт, а ведь и в самом деле — почему бы не записывать за ним все его мгновенные, как вспышки магния, остроты, этот бенгальский блеск молниеносной реакции в разговоре, убийственные реплики в неприятельских перепалках, перлы любви по отношению к семье и близким друзьям — все то, из чего и рождается не сравнимое ни с чем, прямо–таки радиоактивное обаяние, которое излучает этот немолодой еврей с вислым носом. Почему бы и нет, подумала я, если объект действительно под рукой и главное — живехонек, то есть всегда может восстать против неправды, преувеличения, искажения фактов. Вот эти–то воспоминания самые правдивые и будут, подумала я тогда. Поулыбалась про себя, вспоминая всякие забавные эпизоды с Губерманом, его шутки, всегда неожиданные до оторопи, и занялась своими делами. Затем последовал еще звонок, один из бесчисленных. — Старуха, а вот в четвертом номере «Дружбы
народов» про тебя Приставкин
воспоминания написал. И тогда неожиданно для самой себя я
сказала: А потом села к компьютеру и для начала записала этот разговор. • На семинар мы, кстати, поехали — целый
автобус разновеликих литераторов —
поэтов, писателей, драматургов. Кормили
нас, действительно, на убой, травка
зеленела, солнышко блестело, коровки
мычали, и выпивки было привезено
достаточно. И все было бы замечательно,
если б не братья–поэты, которые сразу
принялись задаривать друг друга своими
книжками. Одна поэтесса выпустила
книжку эротических стихов всю —
буквально — утыканную фаллосами. В
каждой строфе там фаллос на фаллосе
сидел и фаллосам погонял. Все коллеги
получили по дарственному экземпляру
этой книжки. В том числе и Губерман. За
завтраком в кибуцной столовой он —
невыспавшийся, злой — подсел к нам,
положил эротическую книжку на стол,
постучал по ней ногтем и мрачно сказал: Давно замечаю, что его отношение к книгам совершенно не писательское, а — читательское. То есть, как нормальный читатель в своих пристрастиях, он опирается на свое «нравится — не нравится». Абсолютно свободен от тяжких писательских вериг болезненного самолюбия, тщеславия, ревнивого слежения за тем — кто, когда и где сказал или написал что–то о нем. Свои четверостишия, как известно, без всякого почтения называет «стишки». Очень часто, рассказывая о начале своей эстрадной деятельности, говорит — «когда я начал завывать стишки со сцены». Поэтому, когда он звонит и сообщает: «а я сейчас написал, по–моему, гениальный стих», — то за этим следует, как правило, нечто скабрезное. На днях подарил новую книгу «Закатные гарики». Я болею, лежу с температурой и читаю подарок. Игорь звонит и долго говорит о чем–то с Борисом. Тот сообщает, что Дина (я то есть), лежит с температурой, листает «Закатные гарики» и ржет. После разговора проходит минут пять, раздается телефонный звонок. На этот раз Губерман требует к телефону меня и — «старуха, по–моему, я написал гениальный стих»:
Когда он в друзьях–литераторах подмечает трепетное отношение к их собственным выдающимся творениям, то высмеивает тонко и беспощадно, так что поначалу, вроде, и внимание не обратишь — как на укус комара — зато потом долго расчесываешь уязвленное самолюбие. Как–то я пожаловалась ему на издателя–вора, который время от времени допечатывает тираж и продает мою книгу, зарабатывая на этом. Игорь говорит — так отбери у него типографские платы! Я возражаю — неудобно, издатель ведь вложил в издание деньги, выходит, платы наполовину принадлежат ему. — Отлично, — говорит Губерман, — а хранятся пусть у тебя. Вот ключ от Храма Гроба господня уже семь веков хранится в oдной арабской семье, а ведь это большая святыня, чем твой роман… Помолчал и добавил глумливо: …— пока. Во всем, что касается литературных пристрастий, для него не имеют значения ни мнения авторитетных критиков, ни модные имена. Повлиять на его восприятие книги невозможно. Звание «говна» может заработать какой угодно нашумевший роман. Я подсунула ему читать новый перевод Генри Миллера, страшно расхваливая. Он прочитал, звонит: Нет, совершенно мне не нравится. Все, что касается эротических сцен — однообразно и скучно. В этом я больший специалист, чем Миллер, мне неинтересно. И потом он постоянно употребляет это ужасное слово «вагина». Повсюду, куда не сунься по тексту — вагина, вагина, вагина. Так и хочется присвоить ему звание — «вагиновожатый». Но когда Губерман вдруг открывает новое для себя имя, он способен говорить о книге долго, бескорыстно, упоенно и на мой ревнивый взгляд — неумеренно. Вообще он из тех, кто способен влюбиться в литературное явление. Звонит недавно, спрашивает — что поделываю. Говорю — читаю хорошую книжку. Он говорит — и я, знаешь, читаю хорошую книжку, Лоренса Дарелла. Я вошел в его «Александрийский квартет», и мне так хорошо в этом пространстве, вылезать не хочется! А с возрастом понимаешь, что лучшее занятие в жизни — читать хорошие книжки — подхватила я, как всегда не замечая, что доверчиво «подставляюсь». Реакция последовала незамедлительно. — Конечно! — подхватил он. — Вот так задумываешься понемногу: хули мы с тобой столько времени потратили на то, чтобы их писать! Вообще–то, его характер (он домосед) находится в постоянном противоречии с образом жизни (разъезды, выступления). Поэтому в те редкие дни и недели, когда удается отсиживаться дома, он требует, чтобы домашние его не трогали. На днях жалуется, что Тата затеяла
ремонт, и в доме нет житья. Впоследствии
оказывается, что «ремонт» — это всего
лишь побелка потолка в кухне. Но Игорь
очень мрачен и хает этот ремонт через
каждое слово. Едем в их машине в гости к
общей приятельнице в Тель–Авив.
Случайно заговорили о Толстом. Игорь: Боря говорит: Игорь подхватывает: Назад возвращаемся уже ночью. Шоссе на
Иерусалим ярко и красиво освещено. И
Тата говорит: Он насмешлив, он опасен этой своей небрежностью обидной шутки, которую роняет, словно и сам не замечая. Недавно в буфете радио «Кол Исраэль»,
мы сидели небольшой компанией после
передачи, зашел разговор о местных
поэтах. Алла Нудельман проговорила: Его участие в беседе — независимо от числа беседующих — похоже на фокус. Одного его слова, одного мимолетного замечания достаточно, чтобы тема разговора приобрела совершенно неожиданный поворот. Я наблюдала это много раз и до сих пор не понимаю — как он это делает. На том же писательском семинаре сидим мы, несколько литераторов, после обеда, лениво перебрасываясь замечаниями. Георг Мордель рассказывает, как отдыхали они с женой на острове Мармарис. Как однажды вышли на пляж и увидели семью. Жена, муж и мальчик лет семи. Жена возлежала без бюстгальтера, но с огромным крестом промеж грудей. Услышав, как Мордели говорят между собой, женщина, ничуть не смутившись, воскликнула — вы говорите по–русски! А мы из Кривого Рога. После чего затеяла непринужденную беседу. — Такая странная, — рассказывал Георг, — тут же муж, сын, а она — без бюстгальтера. Игорь сказал: Георг долго качал головой,
приговаривая: И все вдруг странно оживились, и беседа потекла совершенно по другому, мало пристойному руслу. Один наш общий знакомый, писатель–юморист, позвонил мне и предложил сюжет собственной драмы: два года он пребывал в глубочайшей депрессии, пока в одно несчастное утро не пошел вешаться — в чуланчик, где стоят газовые баллоны. Встал на табурет и простоял так полтора часа с петлей на шее, не в силах оттолкнуть ногой табурет. Наконец, соседи, которые видели, как он прошел в чуланчик, обеспокоились, вошли и… Короче, отправили его в психушку, откуда он мне, собственно, и звонил. Под тяжелым впечатлением от разговора
с бывшим юмористом, я звоню Губерману и
рассказываю все это. Вот мол, стоял
полтора часа с петлей на шее, пока соседи
не насторожились — видели, как он прошел
в чуланчик с табуретом. Игорь мгновенно
перебивает: Переждал, как всегда, когда я нервно
отхохочусь (естественно, я представила,
как соседи выдирают табурет из–под ног
заторможенного юмориста и как тот
повисает в петле), и закончил со вздохом: Вообще, к парадоксальным чертам еврейского национального характера он относится с философским смирением, с глубинным пониманием истоков, причин и следствий. И, конечно, с присущей его мировоззрению «беспощадностью любви», которая так шокирует и даже отталкивает людей недалеких. Однажды мы с ним обсуждали эту извечную еврейскую «жестоковыйность», извечную страсть к противостоянию, противоборству и национальное умение организовывать противоборство на ровном месте. В тот раз, помнится, обсуждали кого–то из наших именитых «отказников» да сионистов, тех, кто сидел по советским тюрьмам и лагерям, а приехав в Израиль, с не меньшим пылом включился в борьбу с местными властями. Помню, я высказала предположение, что эти прославленные борцы с режимами отковали себе биографию именно вот этой неуемной еврейской жестоковыйностью. — Да, — сказал Игорь задумчиво, — генетическая потребность в борьбе. Причем не в абы какой. Хотят, чтоб им бедро ломали (он, конечно, имел в виду праотца Иакова, который с самим Б–гом боролся), — усмехнулся и добавил, — А никто не ломает! В человеческих отношениях его отличает такая внутренняя свобода, что многие, кому приходится соприкасаться с ним, не в силах этой свободы ему простить. Ведь мало кто может позволить себе жить так, как хочется. А Губерман позволяет. Он, который постоянно хлопочет о судьбе рукописи какого–нибудь старого лагерника, у страивает благотворительный вечер, чтобы помочь деньгами какой–нибудь российской старушке, чьей–то позабытой вдове, дочери, внучке — он, который ни минуты не трясясь над своим литературным именем, может написать предисловие к книжке начинающего и никому не известного поэта — он позволяет себе игнорировать торжественные банкеты, премьеры, презентации, высокопоставленные тусовки, личное приглашение на вечер известного писателя. — Да, он и меня пригласил — заметил Игорь на мое сетование о том что, вот, мол, придется идти и терять вечер, — но, к счастью, я в этот день страшно занят. Правда, пока еще не знаю чем. В то же время он удивительно снисходителен и подчеркнуто вежлив, когда имеет дело со своими читателями, особенно пожилыми. Не так давно мы с ним случайно столкнулись у входа в Иерусалимский общинный дом. Тут же всплыли какие–то темы, которые надо было обсудить. Подниматься по крутой лестнице на третий этаж не хотелось, мы и сели тут же на ступенях в подъезде. И все наши читатели и слушатели, заходя
в подъезд или спускаясь сверху, словно
бы спотыкались о нас. А один седовласый,
осанистый, действительно споткнулся и
сказал: Игорь сказал вежливо: Господин ушел, но вскоре вернулся, сияя: Губерман сказал: |