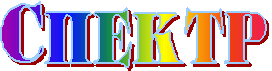
|
No. 3 (021) |
March 13, 2000 |
||
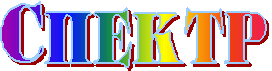 |
|
||||
«...Выпивать и закусывать...»
Окончание. Начало см. «Спектр» № 2, 2000. Поскольку и у меня, и у Губермана
основной заработок — это поездки и
выступления, наш разговор часто
напоминает беседу двух детей лейтенанта
Шмидта: — Говорят, в Назарет стоит поехать, —
сообщаю я деловым тоном. — Город хлебный.
Публика хорошая, книги раскупают. ...Его ирония не обходит стороной ни одну тему. Вообще, запретных тем — (пытаюсь сейчас припомнить) — у него вроде бы и нет. Темы смерти, болезней — самые что ни на есть обиходные. Помню, в день одного из чудовищных взрывов в центре Иерусалима, когда сразу бросаешься к телефону обзванивать «своих» — целы?! — он поразил меня какой–то спокойной, почти неуловимой горечью. Меня трясло (много было погибших, в том числе дети), и я как–то жалко пыталась укрыться в разговоре с ним — от самой себя, от своего страха. — Да, — сказал он, и в голосе его звучала самая обыденная интонация, — ну вот так, значит. Значит, на этот раз — пронесло. Значит, будем следующими. А пока—живи. Вообще, очень часто он произносит нечто такое, на что в народе обычно отвечают «типун тебе на язык». Может быть потому, что ничего и никого не боится — ни типуна, ни колтуна, ни топтуна. Когда я болею (многолетняя астма), он названивает, спрашивает: — Ну, какие вести со смертного одра? Недавно — у меня очередной приступ. Звонит Губерман, а я почти не могу говорить — все время кашляю, задыхаюсь. Он спрашивает — у тебя ингалятор–то под рукой? — Да нет, — говорю, — прошу вот дочь пойти в аптеку, но она смотрит телевизор и все время говорит: «Сейчас, мамочка, вот только закончится эта передачка». Губерман говорит со своим характерным смешком: — А ты ей скажи, что когда передачка кончится, мамочка будет уже мертвенькая лежать. И я смеюсь в ответ, — кашляя и задыхаясь. В то же время он, заядлый и злостный куряка, мученически терпит мое присутствие сам и никому не дает при мне закурить. На радио «Кол Исраэль» Игорь с Сашей Окунем готовят еженедельную передачу «Восемь с половиной». Когда им надоедает трепаться самим, они приглашают меня в качестве «женского голоса», или «женской точки зрения». Иногда я просто читаю что–то свое — Саша гениально подбирает музыку, это один из многочисленных его талантов. Игорь (который к Сашке очень привязан и боготворит его, как художника) делает вид, что боится его начальственного гнева. Приходит в студию с какими–то бумажками, якобы подобострастно показывая, что к передаче готовился. — Сашка будет ругаться, — говорит он, — я его страшно боюсь! И вот, мы на радио, делаем передачу «о собаках». Входит Володя Фромер, увидел нас, обрадовался, расположился закурить... Игорь сказал, кивая на меня: — Старик, при этой бабе курить нельзя. Она моментально беременеет. И Володя испуганно прячет сигарету в пачку, прежде чем понимает, что это шутка. Вот кажется уже, что можешь предугадать реакцию Губермана на то или иное событие, обстоятельство, фразу... И все–таки каждый раз попадаешь впросак. — Ну что, — говорит, — опять голос пропал? Это тебя сглазили. Ты купи амулет, «хамсу», и повесь на шею. Далее я с изумлением слушаю нечто новенькое в его репертуаре — до сих пор была убеждена, что все эти наговоры, сглазы, амулеты не имеют к нему ни малейшего отношения. А он, между тем, увлеченно рассказывает, как однажды на книжной ярмарке — поверх толпы читателей, ломящихся за его книгами — перехватил тяжелый взгляд некой поэтессы, у которой книг не покупали... И... на следующий день у него пропал голос. Сглазила баба! — Да, да! — говорит он с невероятным увлечением, — Тогда Тате посоветовали знающие люди, она пошла и купила «хамсу». Я надел ее на шею, и все — как рукой сняло! И в тот самый момент, когда я уже готова
поверить в серьезность его интонации, он
произносит совсем невзначай: Соседка, пожилая тетечка, говорит жене
Губермана: Литератор, особенно поэт, особенно когда он работает в таком странном жанре, как четверостишия, живет, — «как птичка божья», не зная «ни заботы, ни труда...» Поэтому он, как голодный волк, вынужден рыскать повсюду в поисках пропитания семье. Ведь давно известно: общество ничем не обязано своему певцу и летописцу, оно даже не обязано интересоваться — за счет чего эта птичка (этот волк, этот гончий пес) еще не дохнет с голоду. А птичка не дохнет с голоду благодаря искрометному сценическому дарованию. Птичку хочется слушать и слушать. Ну, это понятно: мы выступаем, продаем свои скромные книжки... Впрочем, как выясняется, дарование великолепного рассказчика можно использовать и в других, не менее увлекательных целях. Года три назад один из владельцев крупного туристического агентства в Израиле предложил Александру Окуню и Игорю Губерману сопровождать за границу небольшую группу туристов в качестве... не гидов, нет, профессиональный гид имелся. В качестве их самих. Известный израильский художник Александр Окунь — человек разностороннего дарования. Он пишет, ведет свою еженедельную радиопередачу на «Кол Исраэль», великолепно знает музыку, историю, литературу... Кроме того, является знатоком национальных кухонь. Только о французских или итальянских винах Саша может прочесть многочасовую лекцию. — Ну, насчет Сашки все понятно, —
сказала я Губерману, когда узнала о
приглашении сопровождать группу
туристов во Францию. — Он может читать
лекции о чем угодно. А ты что там будешь
делать? ...В этой поездке во Флоренции с ними столкнулась какая–то группа из России, и одна из туристок воскликнула: — Ой, девочки, смотрите, Губерман! Потом счастливо и гордо оглядела всю
группу и сказала: (Впоследствии на эту историю Сашка Окунь ядовито замечал: — Это в прошлый раз такая культурная публика попалась. А в этот раз приходилось подкупать незнакомых людей, чтобы те подходили к Игорю и говорили: — Ми вас знаем!) Первая поездка в Италию удалась настолько, что туристическое бюро сразу же стало набирать следующую группу в другую страну. Разумеется, из каждого путешествия Губерман привозит какой–нибудь устный рассказ, какую–нибудь сценку. Поскольку Италия — пожизненная страсть Александра Окуня, время от времени он соблазняет Губермана на очередной сногсшибательный итальянский маршрут. Вчетвером, с женами, они заезжают в такие уголки Апеннинского полуострова, такие укромные городки и деревни, какие групповому туристу и не снились... После каждой такой поездки Губерман собирает у себя застолье. Тата готовит свое коронное блюдо — вареный язык. На мой неизменный комплимент, что такого языка, как Тата готовит, я нигде больше не ела, Игорь замечает: — Так она ж всю жизнь на моем тренировалась! На этот раз главное впечатление от поездки — обед у контессы, итальянской графини. Оказывается, графиня год назад на какой–то выставке приобрела три работы Окуня и, поскольку приятельствовала с его двоюродной сестрой (женой израильского посла в Италии), устроила обед в честь художника с друзьями. Наши думали, что контесса — какая–нибудь милая отставная старушка, которая примет их в своей милой тесной квартирке. Поэтому явились после целого дня шатания — потные, туристические, усталые. Выяснилось: графиня — владелица земель, имений, замков, дама высшего света и красавица, лет тридцати пяти... А родовитая! Чуть ли не Борджиа. Принимала их в замке, на обед приглашены гости — герцоги, послы с послицами, два–три почетных члена каких–то академий... Все, как водится, в смокингах, дамы — в вечерних нарядах... Мужчины все в черном. В белом только два лакея в перчатках и Игорь Губерман — в грязной белой футболке. «Наши жены» — Тата и Вера — ужасно перепугались всей этой роскоши, задрожали, затряслись, как осиновый лист. Но Сашка, которого трудно смутить и сбить с толку буржуазными штучками, сказал, что художнику на любой великосветский прием позволительно явиться в свитере и джинсах, потому что он художник, а женам художников — тем просто полагается быть в тряпье, потому что — «кто еще может выйти замуж за такое говно!» Контесса была с гостями мила и проста, показала замок. Завела Игоря в спальню, продемонстрировать картины. Потом протягивает аккуратный такой старинный молитвенник, говорит — что это, как вы думаете? И как–то повернула потаенный ключик, внутри молитвенника оказалась полость, а в ней — маленький инкрустированный пистолет. «Осторожно, — сказала контесса, — он спущен с предохранителя, и в стволе — пуля». Игорь уверял, что тем самым она давала ему понять, чтоб не приставал. За столом он гонял лакея–филиппинца, заставляя того все время приносить граппу. Надрался, конечно, сказал контессе, что у него теща — тоже графиня. Что правда: мать Таты, Лидия Борисовна Либединская, по отцу — графиня Толстая. Когда уходили, жал руку лакею–филиппинцу. — Я пригласил контессу к нам пожить, — говорит он серьезно. Мы, конечно, комментируем это должным образом — мол, контесса будет Шаха выгуливать... — Вы зря иронизируете, — говорит Губерман, — я не каждого, между прочим, к себе пожить приглашаю. Какого–нибудь Папу римского я — хер приглашу! Кстати, Шах, бельгийская овчарка Губерманов — замечательная собака. Воспитанный умный пес, преисполненный великолепного достоинства. Мой пес, Кондрат, наоборот — вот уж меньше всего о достоинстве думает. У него есть дела поважнее. • ...Сашка Окунь, человек беспокойный и изобретательный, долго носился с идеей «семантической» кухни. Это когда название блюда должно быть отображено по смыслу, по вкусу и по цвету. Долго готовил программу вечера «презентации», проводил лабораторные исследования. Вера, жена Окуня, рассказывала, что некий суп под названием «Боккаччо» трижды сливали в унитаз как неудавшийся. Наконец, Сашка торжественно пригласил
нас на ужин в итальянском стиле, на
двенадцать персон. Подобрал музыку, как
только он умеет. Волновался, бегал, как
мальчик в трактире, босой и в
подвернутых штанах. Велел не приходить
раньше семи тридцати. Когда увидал из
окна кухни, что мы выходим из машины,
закричал на весь двор: «Хрен с вами,
можете войти через минуту!» Мы вошли и
увидели благолепие. Возле каждого
прибора лежало рукописное, вернее, руко–рисованное
самим Сашкой, меню, с рекомендуемыми
темами разговоров, с пометками, вроде: «обмен
комплиментами», «рассказы о страшных
приключениях, о путешествиях», «скабрезные
истории», «посмертная слава женщины». В
таком, примерно, ключе. Губерман сказал: Обед прошел очень трогательно, я напоследок с устатку и выпивки ушла поспать в кабинет. Просыпаюсь от громового Губермана. Он стоял надо мной — длинный, в каком–то идиотском двурогом колпаке. Оказывается, меня будили на торжественную церемонию: все, нахлобучив на головы пуримские головные уборы — что в доме нашлось, — пили прощальную рюмку. Я приплелась в столовую, Сашка напялил на меня какую–то широкополую шляпу с пером, — и меня тоже заставили выпить. Потом прощались на лестничной клетке,
я нащупала в кармане юбки завалявшуюся
купюру в сто рублей (недавно вернулась
из России) и, когда целовалась на
прощание с Верой и Сашкой, вмяла в его
ладонь эти чаевые, приговаривая: Он обалдело поднес к лицу мятую сотенку, взвыл от восторга, зарычал и чуть с лестницы не свалился. Надо полагать, все соседи были в курсе этой пирушки и терпели нас весь вечер. А ведь могли бы и в полицию позвонить. А сегодня, наутро, я думаю: нет, все–таки, израильтяне — в силу собственной кагальной невыносимости в бытовой своей ипостаси — самое терпимое общество в мире... И только близкие знают — как мрачен он бывает по утрам. Только близкие друзья стараются по утрам не звонить до одиннадцати... Бывают дни, когда сквозь вечную ухмылку рыжего клоуна явственно проступает гримаса клоуна белого. Давно подмечено, что память странно избирательна: порой бесследно уходят события на первый взгляд важные, и застревают такие мелочи, такой сор, такие крошечные детали... Почему, спрашивается, я так явственно и подробно запомнила один из летних иерусалимских вечеров, когда общий наш с Игорем приятель, живущий в одном из провинциальных городов, устроил вечер своей прозы в Библиотеке Форума. Приехал он с целой кодлой друзей, с молодой любовницей. Собралась, конечно, та компания: с десяток графоманов из Лито, пара старых дев и старикан в форме солдата Армии Обороны Израиля, автор советских партизанских песен. Я открывала вечер, Губерман его закрывал. Или наоборот, неважно. Один из местных поэтов, без перерыва остривший весь вечер, приволок свою воблу... После вечера пошли выпить в скверик памяти павших британских офицеров. Игорь нахлобучил мою соломенную шляпу и стал похож на пирата Билли Бонса. Он все время обрывал острящего и приставучего поэта с воблой. Например, когда тот спросил: — А ты член Союза писателей? — Игорь ответил: — Я член, но вялый. Выпили, поговорили, наконец, мы с Игорем переглянулись и он одним подбородком показал — поедем, пора (меня, «безлошадную», в таких случаях он подбрасывает домой, в Маале Адумим). Вслух сказал: — Приберите бутылки, а то по ночам здесь бродят тени британских офицеров. ...А в машине мы заговорили о трагедии–счастье в жизни нашего общего друга, о его незаконном сыночке. Это был какой–то очень грустный и важный для меня разговор. Игорь довез меня до дома и сказал,
глядя перед собой: Спустя несколько недель после смерти Зиновия Гердта я смотрела по телевизору его последний вечер. Сцену, усыпанную опавшими осенними листьями, взгляд Гердта — трагический, устремленный уже куда–то поверх людей — взгляд человека, осознающего свой уход. И последнее героическое усилие — когда он, уже не встававший две недели, вдруг поднялся с кресла, сделал несколько шагов по авансцене и с неистовой силой подлинного таланта прочел стихи Давида Самойлова... До сих пор в ушах его голос: «О, как я поздно понял, зачем я существую!...» Я вспомнила, как мы гуляли с ним и Таней по Иерусалиму. Как он поколачивал меня кулаком по спине и повторял в каком–то странном восторге: — Дина! Я — папа Левы Рубинчика!... (Есть такой персонаж в моей повести «Во вратах Твоих». Еврейский старик, который ходит по израильским магазинам с советской дырчатой авоськой, останавливает всех знакомых и незнакомых и всем кричит: — Я папа Левы Рубинчика! Зиновию Ефимовичу нравился этот образ...) Уже на титрах я набрала номер Губермана, с которым Гердт давно дружил, останавливался, когда приезжал в Иерусалим. Услышала голос Игоря и — горло сдавило, не могу говорить. Знала, что он тоже смотрит вечер Гердта. — Ну, что? — спросил Губерман спокойно
и, вроде, даже обыденно. Не дождавшись
ответа, сказал: — Ревешь?... Не реветь
надо, дура, не реветь, а чаще с друзьями
выпивать и закусывать... |