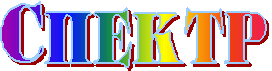
|
No. 6 (024) |
June 12, 2000 |
||
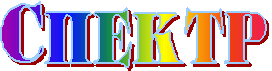 |
|
||||
История болезниПродолжение. Начало см. «Спектр» № 5, 2000.
Никогда, ни разу не каялся Краев в том выстреле. Одно из двух: или Святочный был изменником и пробовал завербовать его, тогда изменнику и поделом; или он сошел с ума, и рано или поздно за него бы принялись костоломы из НКВД, и результат был бы такой же: пуля в лоб, только после измывательств и побоев, а скольких человек потянул бы он за собой — и подумать страшно. Однако оказалось, что можно выбросить из памяти расстрелянного тобой человека, но трудно забыть его слова, его безумную логику, благодаря которой факты, которые можно было кое–как объяснить поодиночке, но совершенно непостижимые все вместе, укладывались в грозный бесчеловечный узор. И хорошо, что война выматывала все силы, и думать об этом приходилось не часто, а вот сейчас пришло в голову. Эх, некстати... • — Разрешите, я вас все же осмотрю, —
донесся откуда–то издалека голос
Львовича. Краев равнодушно стащил
гимнастерку. Оставшись один. Краев глубоко задумался. Честно говоря, особой необходимости в поездке на передовую не было. Он в свое время уже излазил ее вдоль и поперек и помнил, как собственную ладонь. Была привычка: еще и еще раз, опять и опять, снова и снова... Привычка, между прочим, небезобидная: всегда хотелось что–то изменить, улучшить, исправить, учесть какие–то мелочи, на месте, мол, видней. А это дело такое: одно, может, и улучшишь, а другое незаметно испортить, потому что в такой ситуации решение принимается импульсивно, без глубокой штабной проработки. Лучшее, как известно, враг хорошего. Ничего не нужно менять. Операция задумана остро и оригинально, разработана грамотно, можно сказать, безукоризненно. И обеспечение на высоте, хотелось бы побольше, конечно, но границ желаемому нет. Хотя два артиллерийских полка из резерва РГК — это уже сверх всяких желаний, если, как на духу... Краев вновь, наверное, в тысячный раз, начал мысленно прокручивать план предстоящего сражения. Была ли возможность неудачи? Конечно, была. Минимальная, в несколько процентов, но была. И эти несчастные проценты или даже доли процентов могут сыграть роковую роль. А кто этого не понимает и дает полную гарантию победы, тот дурак или очковтиратель, а может, просто трус, который боится правды. И все же Краев был уверен в успехе. Какая–то внутренняя убежденность говорила ему, что победа будет на его стороне. И до чего же хорошо было бы предъявить свои выкладки третейскому судье, и пусть Шранк предъявит свои, и пускай третейский судья изучит те и другие и скажет: «Генерал Шранк, вы проиграли!» И все: немцы строятся в колонны для следования в плен, а наши трофейщики подсчитывают военную добычу. Хорошо — но так не получится. Будет жестокий бой. И не третейский судья, а он Краев, докажет свою правоту силой огня и железа. И, конечно, ценой солдатской крови. Но тут уж ничего не поделаешь. Война и есть война, не он ее выдумал. А завтра успех дела во многом зависит от действий 116–й отдельной дивизии. Именно ей предстоит выдержать первый страшный удар бронированного тарана Шранка. Зарыться в землю и стоять насмерть. А потом отступить, имитируя беспорядочный отход. А когда немцы начнут преследование и втянутся в него, неожиданно закрепиться на запасных позициях и опять обороняться мертво. И так несколько раз. Вся трудность заключалась в том, что такие действия должны выглядеть совершенно правдоподобными. У Шранка все время должно быть ощущение, что до решающего прорыва остается одно небольшое усилие, что сопротивление советских войск есть результат отчаяния или страха перед заградотрядами в тылу или еще чего–то в этом же роде, что победа должна вот–вот свалиться ему, Шранку, в руки, и лишь какая–то досадная мелочь мешает этому. И он будет задействовать свои резервные части, одну за другой, чтобы переупрямить противника, потому что свято верит в силу волевого начала вождя. И силы для этого у него есть. А в конце, когда он окончательно зарвется, а он обязательно зарвется, потому что над ним висит беспощадный приказ Гитлера, вот тогда в дело войдут основные силы Краева. Два корпуса ударят с флангов, рассекая группировку Шранка и уничтожая ее. Конечно, 116–я дивизия при этом обречена на гибель, если уцелеет процентов десять, то хорошо. Но именно мужество ее солдат и офицеров, тактическое мастерство, непреклонность и выдержка командира дивизии есть решающие факторы в успехе операции и конечном разгроме врага. В ком, в ком, а в командире 116–й генерал–майоре Леониде Прохорове командующий был уверен без всяких оговорок. Они дружили много лет. Когда–то служили в одной дивизии. Потом вместе учились в академии. А после ее окончания несентиментальная военная служба разъединила их. Как в песенке Утесова:
На Дальний Восток поехал Прохоров. Ему завидовали. Служить в Особой Дальневосточной Красной Армии да еще под командованием легендарного маршала Блюхера считалось большой честью и удачей. Все ждали, что именно там, на Дальнем Востоке, начнутся военные действия, там наши войска будут громить японских самураев, китайских генералов и недобитых белогвардейцев. По всей стране гремела боевая задорная частушка:
Грозное слово «Отпор» было на устах всего народа. Оно произносилось, как собственное имя, и писалось с большой буквы. Отпор состоялся в 1939 году на Халхин–Голе. Победоносный и кровопролитный. Но ни Блюхер, ни Прохоров в нем не участвовали, потому что были арестованы, как изменники и враги народа. Сначала взяли Блюхера. После этого Прохоров начал ожидать своего часа. И он не особенно удивился, когда в его кабинет без доклада вошли трое: лейтенант с петлицами наркомата внутренних дел и двое в штатском. — Комбриг Прохоров, вы арестованы. Вот
ордер. Сдать оружие и ключи. И без
глупостей. Комбриг Прохоров давно и твердо решил, что он не позволит изувечить себя на допросах. Если расстреляют — черт с ним, пусть расстреляют. Но если суждено попасть в лагерь, то не с отбитыми легкими или почками. Потому что единственный шанс выжить и когда–нибудь выйти на свободу и тогда доказать невиновность свою и других, а может быть, рассчитаться с теми, кто виновен в этом кошмаре. Если бы Прохоров попал в первую волну арестов, он скорее всего думал бы и поступал, как те, кого погребла эта волна, и кто считал, что от мужества и стойкости на допросах зависит их жизнь и честь. И многих других. Но после того, как расстреляли Тухачевского, Якира, Уборевича и сотни других командиров, преданных партии и советской власти душой и телом, стало ясно, что происходит не ошибка, а преступление, и что арестованные органами НКВД — не подозреваемые, даже не обвиняемые, а жертвы, обреченные на расстрел или, в лучшем случае, на каторгу. А еще не умещалось в голове, что маршал Блюхер был в составе судебной коллегии, приговорившей его боевых товарищей к высшей мере... — Что же это делается? — спросил его
как–то Прохоров, когда они оказались
наедине. — Как же так, Василий
Константинович? ...Его вели через двор к черной машине с занавесками на окнах. Он шел в полном обмундировании комбрига: ромбы в петлицах, нашивки на рукавах, орден на груди, командирский пояс с портупеей, только без браунинга в кобуре. Внезапно он споткнулся и, чтобы не упасть, сделал несколько неловких шагов вперед и наступил на пятку идущего впереди лейтенанта. — Извините... С трудом преодолев острую боль, Прохоров окончательно понял, что он уже не комбриг, не командир дивизии, не орденоносец, а грязь под ногами этих страшных людей, у которых одна задача: уничтожить его. ...Вечером в камеру, куда поместили Прохорова, уже без петлиц, ордена и ремня, бросили седого окровавленного человека. Тот был без сознания. Приглядевшись, Прохоров узнал его: знаменитый комкор, герой Гражданской войны. Хорошо знакомые по портретам усы и шрам от сабельного удара через весь лоб. Прохоров не решался привести его в чувство, может, тому в беспамятстве лучше: не так больно. Через час комкор раскрыл глаза. Прохоров кинулся к двери и начал
стучать каблуками. Минут через
пятнадцать открылся глазок. Глазок захлопнулся. Еще через полчаса
в камеру зашли какие–то люди и вытащили
комкора, который, кажется, уже не дышал. А
Прохорову швырнули под ноги мокрую
тряпку: Значит, как сказал комкор, если выживешь, доложишь... Он должен выжить и выполнить приказ. Конечно, для этого придется сделать такое, что и подумать стыдно, но иного выхода нет. Обреченных не спасти, раз уж они обречены, и не в нем сейчас дело. Спустя неделю его привели на первый
допрос. Следователь, двадцати с
небольшим лет, с двумя кубиками в
петлицах, привычно забубнил: • Этот лейтенант попал в следователи
недавно. После училища он полгода
командовал взводом, как вдруг его
перевели в войска НКВД, послали на
двухмесячные курсы — и давай,
выкорчевывай скверну из армии. Ему было
нелегко: подследственные в большинстве
оказались упрямыми и несговорчивыми
людьми. Они знали не понаслышке
рукопашные штыковые бои и отчаянную
кавалерийскую рубку, а многие прошли
через царские тюремные централы,
белогвардейскую или японскую
контрразведку — так вот, они не хотели
ни в чем сознаваться и разоблачать своих
товарищей, а кое–кто ругался, обзывая
лейтенанта и его начальников последними
словами. А свои начальники тоже ругали
его за то, что он затягивает следствие.
Поэтому дубинка шла в ход чаще и чаще. Не
было у него других аргументов и методов.
А ведь в школе он считался маменькиным
сынком, потому что был чистюлей и не
любил мальчишеских потасовок. И еще его
угнетало непонимание смысла
происходящего. И однажды лейтенант
осмелился задать вопрос: Майор был в благодушном настроении,
иначе этому новоиспеченному
следователю пришлось бы худо. Он и действовал. Он и оправдывал. И был уверен, что выполняет волю партии и товарища Сталина, разоблачая врагов народа. И гордился, и старался, как мог. Но несмотря на это, работа следователя опасно изматывала и опустошала его. Наверное, он не был прирожденным садистом или не успел им сделаться. Его не охватывала пьянящая безумная радость вседозволенности, когда он избивал людей, сплошь и рядом годившихся ему в отцы, не говоря уже об их высоких чинах. И он не мочился им в лицо, не выворачивал на голову плевательницу с окурками, не ломал пальцы дверью и не делал еще множества вещей, благодаря которым раскалывались самые несговорчивые. В его душе жила и не стиралась незримая грань, отделявшая «можно» от «нельзя», черт ее знает, по какому принципу выполнялось это деление. Наверное, он такой же, как был, маменькин сынок, несмотря на лейтенантские кубари и должность следователя. Ну, в самом деле, есть ли запретные методы, чтобы нарвать ядовитое жало у врагов народа? И виноват ли он, что на них не действуют ни доброе слово, ни дубинка? И почему другие могут вытворять, что им вздумается, а он нет? Да, другие вытворяли и добивались лучших результатов, чем он. Все сравнения были не в его пользу, и это наводило на разные мысли. Конечно, на первых порах ему делали скидку на молодость и неопытность, но не вечно же это будет продолжаться. И он постоянно чувствовал опасность: если его заподозрят в мягкотелости или, чего доброго, в сочувствии к своим подследственным, то ему несдобровать. Судьба тех, кто раньше занимал его кабинет, была хорошо известна, и она большой зависти не вызывала. И ему было страшно, и он распалял себя перед каждым допросом: какого черта я буду с ним миндальничать, руки себе о его морду отбивать, — но ничего поделать с собой не мог. Но сегодня следователь настроился решительно, и он был готов вышибить мозги и душу из комбрига Прохорова, только бы не оказаться на его месте. А потом, когда бойцы из хозвзвода будут наскоро замывать пятна на полу и стенах, он выпьет, захлебываясь, стакан водки, чтобы унять дрожь во всем теле перед очередным допросом. И так несколько раз в сутки. А когда он доберется до койки, то провалится в мертвый сон, и его будут мучить кошмары, которые станут продолжением того, что было наяву, только в тех снах обычно допрашивали его. И он не знал, надолго ли его хватит, боялся, что сопьется, или сойдет с ума, или случится еще что–нибудь похуже. Так хотелось бы ему хоть на этот раз сделать передышку рукам и нервам, ведь он не железный, а, возможно, придется спокойненько, даже с улыбочкой, сказать комбригу, что сейчас его жена, дочь–подросток, сын–второклассник, а понадобится, так и мама, будут посажены в камеру с уголовниками–рецидивистами, которым пообещают ханжу и марафет за усердие... Кстати, за состояние их здоровья никто ручаться не может. И пусть комбриг Прохоров посмотрит, к чему привело его упрямство, а он, следователь, посмотрит на него. Но комбриг, наверное, не поверит, подумает, что его берут на испуг, провоцируют, и что тогда придется исполнить свое обещание. Что, что, а уголовники, потерявшие облик человеческий, найдутся без труда. Но при одной мысли о том, что будет твориться в той самой камере, лейтенанту становилось дурно до обморока. «Гад, гад, сволочь проклятая! Что же такие, как ты, делают со мной», — думал следователь, с ненавистью глядя на стоящего перед ним арестанта. Что ж, видно, опять придется потрудиться, как его учили в комсомоле: без жалости к врагам и не пугаясь трудностей. И прежде, чем комбриг начнет запираться, требовать доказательства, которых у следствия нет, или очных ставок с оклеветавшими его, а где взять этих давно расстрелянных людей? — хорошо бы для профилактики огреть его, как следует, дубинкой по ребрам или по печени, а потом двинуть сапогом в пах. А иначе толка не добьёшься. • Пробубнив скороговоркой первые слова
протокола, на всякий случай или просто
механически, лейтенант спросил: И неожиданно услышал: Вот наглец! Пришел он, видите ли, заскочил в гости на чашку чая! Но это мелочи. Главное, эта вражина хочет дать показания и к тому же, можно сказать, добровольно. Такого еще не бывало! Выходит, знает, что виноват. И, значит, те прежние тоже, возможно, были виноваты, только запирались. А этот, похоже, раскаялся. Аж ни верится! «Что это, — начал терзаться сомнениями следователь, — редкая удача или какая–то подлянка? Но кому это нужно? Зачем?» — В чем признаваться будете? — глупо
спросил лейтенант. В камере он задумался, почему в дивизии, которой он командовал не один год, никто не поинтересовался, что произошло с их командиром. Да что дивизия! Вся Особая Дальневосточная была влюблена в своего командарма и предана ему, и несмотря на это, ни один человек во всей армии и пальцем не пошевелил, чтобы защитить его. А если бы... А если бы заявили, что не верят в измену маршала Блюхера и будут защищать его силой оружия? Что тогда? Новая гражданская война? Опять белые и красные? Но кто считался бы на этот раз белым, а кто красным? Да какая разница, если нужно спасать армию и страну от измены, которая проникла, страшнее, подумать, куда и откуда... И он представил, как эффектно развернул бы дивизию вокруг штаба Блюхера и... А к ним и другие бы подключились, в Москве, Киеве, Минске... Эти мысли заводили так далеко, что Прохоров старательно гнал их прочь. В следующий раз его привели к другому следователю. Пожилой капитан поднял на него красные от бессонницы глаза. — Я — старший следователь Фейгин... Не передумали, Прохоров? Тогда вот ваше дело. Читайте и подписывайте каждую страницу. И Прохоров начал подписывать, не читая. Какая разница, что они там написали... Только иногда тяжело екало сердце, когда глаза непрошено выхватывали из текста знакомые и незнакомые имена: «комбриг Иванов», «комбриг Сенько», «комдив Вацис» и «Блюхер, Блюхер, Блюхер...» Но однажды он заартачился, случайно прочитав, что его завербовали агенты атамана Семенова. — Что? Эти кретины меня завербовали? Да
я их в двадцатом году... Вы говорите, да не
заговаривайтесь! После этого Прохоров больше месяца
ждал своей участи. Наконец, его привели к
тому же капитану, который прочитал
приговор: Слова «помощь, оказанная следственным органам» на мгновение потрясли его, как удар ниже пояса. Это был моральный расстрел. Или хуже. Но снявши голову, по волосам не плачут. Когда–нибудь он расквитается и за это. — Все, Прохоров, — сказал следователь,
посмотрев на него с гадливостью. — Ну, и
тип же вы. Может, останетесь в живых, если
другие зэки вас в нужнике не утопят. Его определили в зловещий Карлаг в Казахстане. Однако Прохоров неожиданно попал в относительно сносные условия. Он работал в строительной бригаде, а вскоре был назначен десятником. Приходилось вкалывать по 12 часов под беспощадным степным солнцем или в жестокие морозы, но все же не в медных рудниках, где люди долго не заживались. Возможно, сыграла роль та самая запись в приговоре «помощь, оказанная следствию», и начальство возлагало на Прохорова особые надежды в будущем. Среди заключенных было немало людей, которые знали его по совместной службе. Были и те, чьи имена он встречал на страницах протокола своего допроса. Но все они относились к Прохорову по–товарищески, без неприязни и предубеждения. И без опаски. Может быть, ничего не знали, а, может, понимали, как выбиваются признания. Или сами не без греха. Или отложили суд да расправу до лучших времен. Сначала он прислушивался и приглядывался, да пытался ловить на себе косые взгляды. Но ничего подозрительного не обнаружил. И успокоился, будто отпущение грехов получил. Но все равно, так порою становилось тяжело на душе, несмотря на все доводы разума, что хоть криком кричи. Весной 1941 года начальником лагеря
назначили майора Узлюка. Когда–то,
будучи капитаном, Узлюк служил в дивизии
Прохорова начальником Особого отдела.
Между ними было несколько резких стычек,
потому что Прохоров не разрешил завести
дело против двух командиров по причине
их непролетарского происхождения. А
потом отказался завизировать
представление Узлюка к очередному
званию, да еще сказал при этом: «Гнать
надо таких из органов и армии». Впрочем,
вскоре Узлюка перевели в другую часть, и
Прохоров надолго забыл о нем. И вот где
привелось встретиться... |