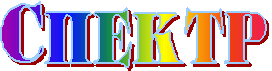
|
No. 7 (025) |
July, 2000 |
||
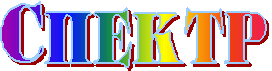 |
|
||||
История болезниОкончание. Начало см. «Спектр» № 5, 6, 2000.
Едва осмотревшись, новый начальник лагеря вызвал своего бывшего командира дивизии. — Ну что, товарищ комбриг, извиняюсь, заключенный номер П834, кого надо было из армии гнать? Я еще тогда понял, кто ты есть, сигнализировал, куда нужно, да дружок твой Блюхер тебя покрывал. А ты, дешевка позорная, его продал. Жаль, что он не узнал об этом. Вот бы порадовался... А ты и тут неплохо устроился. Глядишь, еще на волю живым выползешь и снова армию начнешь разлагать. Ну, ничего, я о тебе позабочусь, старые друзья как–никак. Почему номер криво пришит? Пять суток ареста. Почему не отвечаешь, как положено? Десять суток! Выйдя из карцера, Прохоров узнал, что приказом начлага он переведен на работу в медные рудники. А вскоре у него началось кровохарканье. И погиб бы он, как сотни и тысячи других, но тут война началась. • Краев, которому поручили формировать
корпус, вспомнил о своем друге, разыскал
его следы и начал борьбу за освобождение.
К его намерению отнеслись настороженно.
В одном высоком кабинете Краеву сказали
напрямик: Краев ответил, эти «дела» его не
интересуют, а за Прохорова он ручается и
готов доверить ему в своем корпусе любую
высокую должность. С помощью начальника
Генштаба заключенного комбрига удалось
отстоять. На самых верхах решили
досрочно его освободить и послать на
фронт. Правда, в чине полковника, а не
генерала, как полагалось бы, но хоть не в
штрафные роты, и за это спасибо пусть
скажет. Конечно, о немедленной отправке
на фронт не могло быть и речи.
Потребовалось несколько месяцев
госпиталей, чтобы сделать из лагерного
доходяги дееспособного строевого
командира. И только зимой 1942 года
полковник Прохоров прибыл в штаб Краева.
Они проговорили всю ночь. • Прохоров принял полк. А спустя три месяца стал дивизией командовал. А спустя полгода получил генерал–майора. Воевал грамотно и отважно, даже отчаянно. Если приходилось обороняться, то проявлял хладнокровное упорство, цепляясь за каждый куст, ложбинку. Но подлинной его стихией было наступление. В наступлении стремительном и беспощадном раскрывались лучшие качества Прохорова–полководца: хладнокровный, дальновидный расчет и неукротимая отвага, осторожность и умение идти на риск, а еще умение вести за собой солдат и офицеров. При этом он молодел душой, и ему казалось, что становится таким, как двадцать лет назад. Прохорову не однажды случалось идти в первой цепи с винтовкой, потому что так диктовала обстановка. А потом Краев орал на него, как на провинившегося школяра, обещал объявить выговор и даже грозил отстранить от командования дивизией. Прохоров послушно терпел разносы командарма и мысленно улыбался: он знал, что победителей не судят, а если судят, то не очень строго, и что он, в сущности, прав — не подними он залегшую было цепь, немцы успели бы закрепиться, а тогда пришлось бы Б–г знает сколько солдатских жизней положить. А вот почему генерал их в атаку поднял, а не комбат, так мы сами без командующего армией разберемся... Но, когда поднятые им солдаты бежали на пулеметный огонь и кричали: «За Родину! За Сталина!», чтоб не так страшно было, Прохоров шептал про себя: «За того забитого в застенках НКВД комкора! И за маршала Блюхера! И за комбригов Иванова и Сенько! И за комдива Вациса! За всех невинных людей, на которых я дал облыжные показания, чтобы воевать сегодня! И за всех, погибших в те страшные годы! И за моих товарищей, которые и сегодня сидят в Карлаге и других проклятых лагерях! И даже за тебя, мой дорогой командарм Алеша, везунчик и счастливчик, потому что ты был чуть ли не первой жертвой ежовских вурдалаков: черт его знает, откуда выскочил тот самый танк и куда пропал, его не нашли и, кажется, не искали, зато объявили, что это была диверсия, злодейское покушение на сталинского комдива, после чего начисто выкосили командный состав частей, принимавших участие в тех ночных маневрах. И простите вы меня, ради Бога, за мою подлость, ведь не по слабости согрешил, по расчету, а расчет, кажется, был неверным, поэтому мне и сегодня жить невмоготу...» А может, Прохоров ничего такого не шептал, не до того было, но воевал именно так, словно в кровавом кипятке боя только и мог успокоить растревоженную навечно совесть. И поэтому, и не только поэтому, завтра он и его 116–я дивизия выполнят свой долг и будут стоять насмерть, чтобы обеспечить успех операции, пусть в этом не сомневаются Краев и Шранк, который может застрелиться заранее... Завтра! Назавтра и началось. Десятки тысяч солдат и офицеров, сотни артиллерийских и минометных стволов, боевых машин на земле и в воздухе пришли в движение во исполнение замыслов выдающихся гроссмейстеров войны, генералов Краева и Шранка. А они были сейчас больше, чем когда–либо, не просто смертельными, но и личными врагами, потому что триумф одного означал крушение и гибель другого. И кому какое дело, что когда–то они были учителем и учеником. И что на выпускных торжествах растроганный учитель обнимал своего ученика и прочил ему блестящую военную карьеру. А ученик испытывал естественные чувства уважения и благодарности к своему квалифицированному и добросовестному учителю. Это было так давно, в такой далекой жизни, что, кажется, никогда и не было. Сейчас Краев ненавидит Шранка лютой ненавистью. Потому что это убийца его сыновей, Игоря и Михаила, и еще миллионов других сыновей, в том числе тех, кто погиб, выполняя его, Краева, приказы. И если бы было возможно схлестнуться в поединке, как много веков назад, он задушил бы Шранка своими руками. И любого из них, кто уже три года убивает нас. Ладно, сегодня он уничтожит Шранка другим способом. И забудет о нем. Если доложат, что Шранк попал в плен, он не станет встречаться с ним и беседовать, предаваясь сентиментальным воспоминаниям. Он его и допрашивать не будет, потому что это уже неинтересно; просто прикажет накормить и отправить в штаб фронта. А если окажется, что Шранк погиб, он не опустится до злорадства и не скажет: «Собаке собачья смерть!» или еще что–нибудь в том же роде, поскольку гибель в бою — достойная солдатская смерть. И Краев отметит это в донесении и опять–таки забудет о генерале Шранке. Но до этого еще нужно дожить. А что, и доживем, слишком хорошо подготовились к сегодняшнему дню. Неожиданностей быть не должно! Однако неожиданности появились. Удар
Шранка по 116–й дивизии оказался гораздо
мощнее, чем предполагалось. Может быть,
не все своевременно узнала разведка, а
возможно, Шранк решил сразу же ввести в
бой большую часть своих сил. Но было еще
одно объяснение. В последнее время
немцам усиленно подбрасывали
дезинформацию, что начало их
наступления ожидается на два дня
позднее, чем на самом деле. Если Шранк
поверил, то решил использовать фактор
внезапности и прошить насквозь линии
обороны Краева на всю глубину и в
образовавшуюся брешь вводить в походном
порядке одну дивизию за другой, чтобы
потом, уже в глубине обороны, развернуть
их и бросить в бой, выворачивая
наизнанку наши тылы, сея панику и смерть.
Такая стратегия концентрированного
удара была свойственна взглядам Шранка,
и он неоднократно и с восторгом
рассказывал о подобных операциях во
время тех далеких лекций. И то, что он
поверил и принял желаемое за
действительное — в этом Краев не
сомневался. Что ж, тем хуже для Шранка. Но
давление на позиции Прохорова было
столь сильным, что Краев разрешил
отступление чуть раньше, чем было
намечено. Теперь в бой вступили полки
второй линии обороны, но им тоже
приходилось туго. А Краев был как бы один
в двух лицах. Он чувствовал себя Шранком,
возбужденным предчувствием быстрой
победы, радостно отмечающим на карте
продвижение своих войск, физически
ощущающим, что осталось одно небольшое
усилие — и оборона русских рухнет. И это
усилие он сейчас совершит взмахом своей
мясистой короткопалой руки. И в то же
время Краев был самим собой, твердо
знающим, что натиск немцев иссякнет в
точно намеченное время, и это будет
началом их разгрома, и он предвкушал, как
удивленно вскинет брови Шранк, узнав,
что его войска остановлены и вынуждены
переходить к обороне, а такой поворот в
ходе операции чреват катастрофой, что
его генералы требуют подкрепления, а он
не может помочь им, потому что резервы
нужны ему для других целей... Но пока
напор немецких дивизий не только не
ослабевает, а наоборот, усиливается. И
только чуткое внутреннее зрение Краева
улавливает незаметные, может быть, для
них самих изменения, подтверждающие, что
битва идет под нашу диктовку. В штабе шла напряженная работа.
Донесения поступали каждую минуту, на
карте непрерывно наносилась постоянно
меняющаяся обстановка, проводились
расчеты, все ли идет как намечалось.
Выходило, в основном, так! И внезапно: Из трубки донесся слабый голос,
прорываясь сквозь шум боя: Связь прервалась. Но было и так понятно.
Прохоров жертвовал собой, чтобы
задержать продвижение немцев и ослабить
их давление на его центр. Теперь они не
успокоятся, пока не уничтожат
окруженного комдива и его штаб или не
возьмут их в плен. Краев отчетливо представлял
результаты штурмовки в таких условиях,
где практически не различить своих и
чужих. Что ж, прощай, друг Леня! Поступок
твой достойный, героический. И высокая
награда скорее всего не застанет тебя в
живых. Снова знакомая игла больно
воткнулась в сердце Краева, но думать о
ней не было ни времени, ни сил. Краев нетерпеливо разорвал конверт с надписью; «Первому в собственные руки». На выпавшем блокнотном листке было
нацарапано: «Прощай, Алеша. Я выполнил
свое обещание. Передай Майе». И подпись:
«Леонид». И, не глядя на вошедшего капитана,
перепачканного от пилотки до сапог,
загремел: Начальник разведки 116–й дивизии
капитан Алексей Краев стоял перед
командармом. Вот, значит, что! Вот о каком обещании вспомнил Прохоров в свой страшный, может быть, смертный час. За свое спасение он решил спасти жизнь капитана Краева. Хотя на войне спасать кого–нибудь — занятие рискованное. Вот снаряд разорвался, а разорвись он поближе... Но спас, не ошибся! Спасибо тебе, генерал Прохоров! И будь ты проклят, Леонид Степанович! Потому что, спасая моего сына, ты возложил на меня невозможное: отправить его в тот самый ад, из которого он только что вырвался, благодаря тебе. И сейчас я должен сказать: «Спасибо за службу, капитан! Отправляйтесь в свою часть...» Отправить на бессмысленную гибель. Бессмысленную, потому что где она, твоя часть? Скорее всего, и не доберешься, погибнешь по дороге. А доберешься, много ли пользы принесешь? Ну, заляжешь в окопчике, если подвернется, начнешь стрелять, пока не убьют. Хороша армия, если капитаны погибают, как необстрелянные новобранцы, для этого сына столько лет в училище готовили... И он, генерал–полковник Краев, прозванный бухгалтером, такую нецелесообразность не допустит! Значит, нечего думать: капитана — в отдел офицерского резерва с приказом направить на должность комбата или еще куда–нибудь в соответствии со званием и боевым опытом. Чего–чего, а потребность в офицерах после таких боев будет предостаточной. Пусть кто–нибудь попробует отыскать в решении командарма хоть намек на предвзятость или непорядочность. Что он сына в тыл отправляет или на интендантскую должность? Или завтра война кончается? Так нет же, и для пехотного капитана, находящегося в распоряжении армии, войны хватит по самую завязку. Все правильно. Правильно, но невозможно. Потому что скажут, что он вытащил сыночка из огня, хоть на сутки, а вытащил. А не скажут, так подумают. А не подумают, так будут знать. И он будет знать, и деваться от этого некуда. И здесь уже начинается другая бухгалтерия. Ведь, что ни говори, сейчас по его приказу, приказу генерала Краева, погибает целая дивизия, погибают, отступая, контратакуя, обливаясь кровью, тысячи человек. И только один из них, живой и здоровый, стоит перед тобой, вдали от грохочущего боя. И этот человек — его сын, капитан Краев! Алексей Михайлович почувствовал, как на него наваливается смертная тоска. Вдруг он вспомнил слова старинной солдатской песни: Солдатушки, бравы ребятушки, Со всеми разобрались: с женами, сестрами, даже дедушками. А с сыновьями нет. Потому что они — наша плоть и кровь, наше дыхание и сама жизнь. И когда с ними что–либо случается, мы тоже гибнем какой–то своей частью. А если мы своей рукой отправляем их на бессмысленную гибель, то зачем тогда на свет рожали, и зачем нам оставаться после этого на земле? Существовать зачем? А Майя? Прохоров не забыл и о ней: мол, скажи ей, что я вашего сына уберег, а ты, отец, как с ним поступил? Майя до сих пор убивается по Игорю и Михаилу. Неужели теперь я должен собственной рукой добавить и Алексея? А если она узнает об этом? А не узнает, как мне жить, если из памяти такое никогда не выбросить? Внезапно в его душе вспыхнуло острое чувство неприязни к жене; хоть бы одну дочку родила, хоть бы одну. Может быть, хоть ее пощадила бы война. А так что же... И еще он вспомнил почему–то о двух дочках полковника Святочного, которые живут где–то в Казахстане... Однако все это заслонили мысли о Прохорове, который сейчас бьется насмерть и, возможно, уже сложил голову. Конечно, с мертвых спроса нет. И все–таки, за что ж ты меня так убил, Леонид? Неужели за то, что я вытащил тебя оттуда, рискуя головой? Или за то, что я, конечно, читал и знаю то, чего рад бы не знать? А, может, и впрямь решил, что делаешь мне благо, забыв, куда ведут все благие намерения? Кровь тяжелыми толчками била под
черепную коробку, но Краев не обращал на
это внимания. Он думал о другом. Если бы
можно было вместо сына самому
отправиться туда — Г–споди, да я бы ни
минуты не колебался. Да только нельзя. На
фронте распространился слух, будто
Сталину предложили обменять его сына
Якова, попавшего в плен, на Паулюса, и
Сталин сказал; «Я фельдмаршала на
лейтенанта не меняю». И, между прочим,
зря. От Паулюса уже никакого вреда нам бы
не было: Гитлер не простил бы ему гибели
6–й армии и плена. Фельдмаршала скорее
всего расстреляли бы, а возможно, отдали
бы предварительно в руки гестаповских
живодеров. А лейтенант Яков Джугашвили
мог бы и повоевать. «А в моем случае
генерала на капитана. Все же разница
поменьше, — мелькнула вдруг сумасшедшая
идея. Но какая разница, раз уж Сталин
решил так, а не иначе, то своим
жестокосердным поступком потребовал
такого же жестокосердия от всех отцов
Советского Союза. Но даже, если не знать
об этом, то как на самом деле осуществить
«вместо?» Свои погоны генеральские сыну
нацепить, а самому надеть его
замызганную шинель? Чепуха, конечно,
отчаяние. Нет, вместо никак нельзя. А вместе?
—обожгла его мысль. Вместе можно!
Решение пришло сразу и окончательно. Оно
было таким естественным и простым. Краев
почувствовал, что перестало разламывать
череп и он способен дышать всей грудью. И вызвав адъютанта, сказал: Долг! Ему напомнили о долге! Как будто то, что он собирается сделать, не есть служение высшему долгу перед своей совестью и честью. Перед своим единственным оставшимся в живых сыном, наконец. И перед Майей тоже. — Не забывайтесь, генерал! Вы разговариваете с командующим, — жестко ответил Краев и уже другим тоном продолжал: — Успокойтесь, Юрий Гаврилович. Завершите без меня. Уже конец виден. И никаких сюрпризов не будет. Шранк при последнем издыхании, сами видите. И спасибо вам за все. На мгновение мелькнула мысль: а если
сюрпризы будут? Мало ли что могут
выкинуть немцы напоследок? Ход сражения
это не изменит, но может привести к
лишним жертвам. А если он будет в штабе,
то, возможно, и не приведет. Все, все,
решение принято, все равно, не
существует большей жертвы, чем та,
которую он намерен принести. Они пошли через штаб. Краеву показалось, что среди настороженно притихших офицеров мелькнуло бледное, как полотно, лицо доктора Львовича. Как он очутился здесь, а впрочем, какая разница... Теперь он может докладывать хоть Онопко, хоть Верховному, хоть черту в ступе. Через несколько минут танк взревел, и
синий вонючий дым окутал его. Тяжелая
машина развернулась и сначала медленно,
а потом, набирая скорость, двинулась
туда, где гремела канонада и багряные
вспышки рвали в клочья синее
безоблачное небо. |