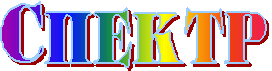
|
май 2003г. |
|||
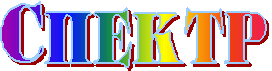 |
|
||||
Как птица для полёта
Счастье, равно как и неудача, подчиняется своим законам. Или оно есть, или его нет. Можно сколько угодно свистеть и царапать мачту, зазывая попутный ветер; можно показывать кукиш костру (куда дуля, туда дым) и закуривать новую сигарету, поджидая автобус. Цена этим народным приметам одна — грош. Такие, совсем не праздничные, мысли крутились в Шаиной голове, пока такси везло его из больницы домой. Мимо пробегали знакомые улицы, их названия, ставшие привычными и уже почти родными, радовали Шаин взор, подернутый слезой жалости к несчастному себе. «РАМБАМ, рабби Акива, Жаботинский, — думал Шая, — все–таки это лучше, чем Ленин, Куйбышев и Маяковский. Но какой идиот придумал в честь праздника бить друг друга молотками по голове?!» И в самом деле, кто автор столь замечательного обряда, широко отправляемого в День Независимости Израиля? Какие ангелы двигали рукой безымянного еврейского гения, встроившего пищалку в наконечник пластикового молоточка? Загадочны дела твои, о избранный народ, таинственны и глубоки твои символы! Когда–то, много лет назад, занимаясь коммерцией в родном городе Одессе, Шая случайно пересек дорогу одной мафиозной структуре. Церемониться с ним не стали. Трое, среднего роста, плечистые и крепкие, войдя в его гараж, с порога предложили: — Выбирай, чувачок, одну из двух дырок: либо в твоей дурной голове, либо в брюхе твоей бабы. Спорить и сопротивляться было бесполезно. На момент предложения жена дохаживала девятый месяц, и Шая решительно, но без всякой радости, выбрал первый из предложенных вариантов. — Да ты не бойся, — успокоил бандюга, поигрывая кастетом, — как на первый раз, буду бить аккуратно, но с силой. Га-га-га! Он заржал во всю мочь, широко раскрывая рот, щедро усеянный золотыми зубами. Так ржут жеребцы во время случки или гуси–лебеди, унося Иванушку за тридевять земель. Слово свое бандюга сдержал: Шаина голова оказалась пробитой всего в одном месте. Кость так и не заросла, и только небольшой слой кожи и волос отделял мозг от окружающей среды. Шая прожил с этим много лет, привык и даже перестал замечать. В День Независимости, собираясь с женой на прогулку по сияющим праздничной иллюминацией улицам Рамат–Гана, он и не думал о надвигающейся опасности. Последнее, что Шая услышал в тот вечер, был восторженный крик какого–то идиота: «Хат самеах!» — с которым тот заехал молотком прямо по дырке в голове. Гирлянды фонариков вдруг сорвались с деревьев и, свиваясь в кольцо, закружились вокруг израильского флага, в центре которого вместо «магендавида» зияла чёрная дыра, куда и провалился Шая. — В принципе ничего страшного не произошло, — сказал завотделением, закончив осмотр. — Отдохнете пару деньков, и дело с концом. А в качестве мер предосторожности советую носить шляпу. Вы ведь человек религиозный, вот и ходите в такой чёрной, с твёрдыми полями — от греха подальше. Отдыхать, конечно, Шая не смог. Вернувшись из больницы, полежал вечерок, а утром отправился в магазин. Но законы неудачи, как уже говорилось, сами по себе, а тщета человеческих стараний — сама по себе. Именно в это утро Шае вновь стало обидно и горько за свою принадлежность к избранному народу. Очередной харидействующий представитель еврейской нации пришёл в лавку за курочкой. Птицу Шая завозил самую что ни на есть кашерную; в иерархии организаций, ставящих на товары свои клейма и печати, он уже разбирался весьма основательно. И хоть куры были супер проверены, над шкафом–холодильником Шая для пущей убедительности повесил портрет известного раввина. Утренний харидей оказался въедливым и настырным. Перещупав всех куриц и осмотрев все печати, он все–таки осмелился спросить Шаю: — Скажите, и откуда вы завозите свой товар? Нервы, нервы — вот куда заехал праздничный молоточек идиота. Шая сорвался: Портрет видал? Вот от него и завожу. А умные вопросы прибереги для ешивы, нечего тут таскаться без толку и зря морочить людям голову! Видите ли, — ответил харидей, указывая на портрет раввина, — если бы он стоял тут, а вы висели там, я бы вообще ни о чем не спрашивал. Шая, понятно, не сдержался, и харидей бежал, унося на плечах груз трехэтажного русского мата. Работать после такого не было ни сил, ни желания, и, закрыв магазин, Шая вернулся домой. — Где правда, — жаловался он племяннику Моти. — Где справедливость? За что валятся несчастья на мою бедную голову? Племянник вежливо молчал. — Разве я мало делаю для Б–га? — продолжал Шая. — Цдаку, пусть не десять процентов, но даю; молитвы, пусть не все, но читаю; кашер всякий шмашер — ем. Другие и того не делают, а живут счастливо и без всяких страданий! — Много вам известно про чужую счастливую жизнь, — наконец отозвался племянник. — Про вас тоже, небось, думают: везунчик — имеет свой магазин! Работает не пыльно, захотел — открыл, захотел — домой пошел. Припомните свою жизнь в Одессе и кончайте плакаться! — Жизнь в Одессе... — мечтательно произнес Шая. — Кто–нибудь имел там представление о кашруте и его тридцати печатях, кто–нибудь спрашивал у бабы на Привозе, откуда она завозит товар? Покупали себе курицу и ели ее как что есть — от головы до хвоста! — У курицы нет хвоста, — заметил племянник. — Кроме того, голову вам проломили все–таки в Одессе, а не в Бней–Браке. Что же касается заслуг перед Всевышним, мне они кажутся сильно преувеличенными. — Много тебе известно про чужие заслуги?! — взъярился Шая. — Да по сравнению с Одессой я сейчас просто религиозный фанатик, мракобес какой–то, прости Г–споди! — Не знаю, как по сравнению со всей Одессой, — улыбнулся племянник, — но для Бней–Брака вы ещё весьма далеки от какого–либо уровня. — Ты просто щенок, мальчишка, не знаешь ни жизни, ни Торы, — в сердцах бросил Шая. — Вот встреться я с большим раввином, он бы меня понял! — А хотите, я сведу вас с большим раввином? — предложил племянник. — А и сведи, — согласился Шая. Через две недели встреча состоялась. Раввин — а вернее, хасидский ребе — жил в Иерусалиме, в религиозном квартале Меа Шеарим, и Шая долго крутился по узким, кособоким улицам в поисках места для парковки машины. Дом ребе представлял из себя огромное пятиэтажное здание, по пустым залам которого гулял холодный иерусалимский ветер. Вдоль стен стояли шкафы, плотно забитые старыми книгами, в толстых переплётах из кожи, почерневшей от времени и сырости. Два молодых хасида в вестибюле о чем–то тихо переговаривались между собой на идиш, но даже их негромкие голоса казались почти криком в абсолютной тишине, наполнявшей здание. — Если вы ищите ребе, — обратился к Шае один из хасидов, — так идите на последний этаж, дверь направо. Шая поднимался по лестнице и с каждым шагом словно уходил все дальше и дальше за черту иной реальности. На площадке четвертого этажа ему уже казалось странным, что в мире существует ещё что–то помимо этих грязновато–белых стен, мраморных ступеней, тишины и холодного воздуха. Секретарь ребе, хасид средних лет с приветливым лицом, кратко расспросил Шаю о семейном положении, работе, здоровье детей и, молниеносно черкнув несколько строк на клочке бумаги, сказал: — Посидите пока тут, а я зайду к ребе, узнаю, когда он сможет вас принять. Передав листок Шае, он вышел в другую комнату и плотно прикрыл за собой дверь. — Это «квитл», — прошептал Моти, указывая на ли сток. — Ребе сначала читает его, а уже потом спрашивает сам, что сочтёт нужным. Понять эти каракули невозможно: почерк докторский, да к тому же на идиш. Секретарь выскользнул из–за двери и, оставив ее полуоткрытой, сказал: — Ребе ждет. Удачи вам. Тогда Шае показалось странным, что за удача может выйти из обыкновенного разговора. Он вопросительно взглянул на Моти, но племянник состроил страшную физиономию и замахал рукой в сторону открытой двери — иди, мол, сам. Ребе сидел в глубоком кресле, вглядываясь в табличку с именами Б–га, стоявшую перед ним на большом столе, покрытом скатертью из коричневого бархата. Длинные седые пейсы с соломенным отливом, ниспадая из–под черной шляпы, сливались с бородой, такой же седой и длинной. Белый, шитый золотом халат с широкими рукавами и желтые огоньки двух свечей в массивном серебряном подсвечнике. — Садись, — сказал ребе. — Давай «квитл». Шая отдал листок и присел возле стола. Окна в кабинете были прикрыты ставнями, и все пространство мира словно бы замкнулось в промежутке между двумя язычками пламени. — Ты ищешь справедливость... — вдруг спросил ребе. Вернее, не спросил, а произнес полуутвердительным–полувопрошающим тоном. Шая даже не удивился, откуда ребе известен его вопрос. Ему представлялось естественным и нормальным, что этот человек знает о нем все. — Да, — сказал он. — Я хочу понять, почему меня преследуют неудачи, за что я страдаю?! Ребе не ответил. Он сидел, глядя на табличку, словно прислушиваясь к чему–то, и тишина, прерываемая потрескиванием фитилей, казалось, была наполнена звуками, слышимыми только ему. Внезапно глаза его начали прикрываться, голова клониться все ниже и ниже, и вдруг, опустив подбородок на грудь, ребе заснул. Шая оторопел. Он ожидал чего угодно, но только не этого. «Устал, наверное, старик, — подумал он с неожиданной нежностью, — вот и сомлел в тишине». Ребе спал так сладко и заразительно, что и Шае захотелось закрыть глаза. Несколько секунд он боролся с искушением, а потом опустил веки и погрузился в блаженную дрему. И приснился Ишаягу Райсеру странный сон. Он увидел свою смерть, похороны, плачущую жену, памятник на могиле; потом земля поплыла куда–то вбок — и он оказался на небесах. Где точно находилась комната с тремя судьями и громадными весами посередине, он не смог бы объяснить даже под пыткой, но точно знал, что дело происходит в другом мире, а эти трое — будут его судить. — Внесите грехи Ишаягу Райсера, — приказал пер вый судья, и ангелы в черных одеждах с трудом втащи ли огромный ящик, похожий на тот, в котором Шая отправлял в Израиль багаж. — Поставьте их на весы, — сказал второй судья. Ангелы заволокли ящик на одну из чаш, и он гигантской своей тяжестью словно припечатал ее к полу. — Внесите добрые дела Ишаягу Райсера, — провоз гласил третий судья. Ангел в белых одеждах осторожно поставил на вторую чашу маленькую шкатулку. Стрелка даже не дрогнула. В комнате воцарилось молчание, и Шая понял, что дело принимает дурной оборот. Жуткий, невообразимый страх охватил его. Все боли и ужасы, перенесенные там, на Земле, казались ничем по сравнению с секундой этого страха. — Внесите страдания Ишаягу Райсера, — приказал первый судья. Ангелы в белых одеждах принялись укладывать на весы какие–то кулечки, свертки и пакеты, с появлением каждого из которых Шае становилось чуть легче. Ангелы несли и несли, и вот стрелка весов, казалось безнадежно загнанная в угол, дрогнула и поползла к жирной красной черте, разделяющей шкалу. Стрелка подбиралась все ближе и ближе, она почти уже прикоснулась к черте кокетливо изогнутым боком, как вдруг ангелы остановились. — Почему вы стоите! — вскричал Шая. — Несите еще, скорее несите еще! В этот момент он проснулся. Тихонько потрескивали фитильки, и ребе смотрел на него ясными, спокойными глазами. — Я что–то не пойму, реб Ишаягу, — сказал он, — вы просите избавить вас от страданий или добавить еще? На улицы Меа Шеарим уже опускались сумерки. Шая медленно брел к машине, наслаждаясь прохладным дыханием иерусалимского вечера. Стайка птиц, затеявших странную игру, привлекла внимание Шаи
своим гомоном и писком. Срываясь с карнизов последнего этажа, птицы неотвратимо
падали вниз, и только у самой земли, почти прикоснувшись грудкой к черному
асфальту, взмывали вверх, рассекая темнеющий воздух. |